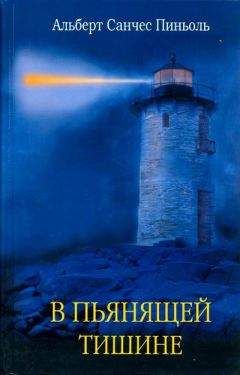Вернулся он точно так же, как исчез, — внезапно. И так же, как воскресший Иисус, постучал в дверь своего друга на рассвете, почти никем не узнанный. Когда они собрались все вместе в доме первого, третий едва сумел дождаться, чтобы слуга разжег огонь в камине и вышел. Он тяжело упал в кресло и произнес:
— Конец.
Друзья молчали, давая ему возможность развить свою мысль. Но третий этого не сделал.
— В чем дело? — подбодрил его второй.
— Разве наша жизнь в этом мире имеет смысл? — заговорил наконец третий. — Упадок заметен во всем. В общественной жизни пышным цветом растает глупость, недомыслие царит на страницах книг и в аудиториях, евреи и горбуны распоряжаются на рынках искусства. Революции уже не совершаются, чтобы изменить людей, а если и происходят, то именно потому, что люди успели измениться сами. Преграды скудоумия отделяют нас от классиков, и варварство наступает гигантскими шагами. В Греции сжигают храмы эпохи Перикла, словно это жалкие хибары. В сердце Африки обнаружили племена пигмеев, которые являют признаки вырождения; и по результатам переписки, которую я веду с самыми светлыми умами Италии и России, они демонстрируют нам не прошлое человечества, а его будущее. И это правда. Я отказываюсь наблюдать за разложением человеческого рода. Все эти симптомы, друзья мои, говорят нам, что болезнь зашла слишком далеко, чтобы остановить ее силой печатного слова или оружия. Тут некому внимать, нечего сказать и ничего нельзя поделать.
Говоривший уже перестал быть человеком — то была пустыня.
— Что вы хотите нам предложить? — спросили первый и второй. Поскольку уточнений не последовало, они сами произнесли слово, которое ожидали услышать в ответ.
— Смерть? — выдохнул второй.
— Славную гибель? — полюбопытствовал первый.
Третий издал шумный вздох, точно раненый кит, и вытянул вперед раскрытую ладонь, словно указывая на горизонт.
— Просто конец, и все. Нам незачем искать мораль, мы просто пойдем навстречу гибели. Поскольку мы не в силах приблизить гибель всего мира, разрушим наш собственный мир.
— А как же праздники? — сказал первый. — Поездки в Помпеи, путешествия в Исландию? Вы говорите, что мир — неуютное место, но он станет еще скучнее, коли мы его оставим. Что будет с женщинами, которые нас обожают, когда мы покинем этот свет?
— Если это достойные женщины, то они некоторое время погрустят, — сказал второй, — а если им не захочется тосковать о нас, то не стоит и переживать за них.
Друзья обсудили диагноз, который поставил миру третий, и его прогноз и на рассвете пришли к единому мнению. Они не просто любили жизнь, им нравилась определенная жизнь, а она, как это им неожиданно открылось, была под угрозой и уже гибла безвозвратно.
— Как бы то ни было, дорогие друзья, — сказал второй, — вместе с нами умрет один из миров.
— Совершенно верно, — заметил первый. Именно он с самого начала оказал наибольшее сопротивление, но затем, решившись, был готов действовать с самоотверженностью фанатика. — Но, если нам предстоит умереть, пусть это случится, например, в водовороте Мальстрем, достойном фантазии Вагнера. И если нам предстоит сыграть роль в одной и той же драме, пусть с каждым из нас исчезнет какой-нибудь неповторимый дар.
Таким образом, заговор самоубийц превратился в подготовку театральной сцены. Просто исчезнуть с лица земли оказалось недостаточно. Надо было унести с собой какую-то частицу чувственного мира и создать повод для воспоминаний. Их договор заключался в следующем: каждый по отдельности должен был придумать способ сохранить навеки память о своей гибели. Потом они все втроем выберут войну, заведомо проигранную, уйдут на фронт и погибнут там в пылу сражения. Войну следовало выбрать безнадежно проигранную — таково было главное условие.
— Это наше право, — сказал первый.
— Это наш долг, — добавил третий.
— Это будет красиво, — вздохнул второй.
С момента принятия решения оставалось только дождаться удобного случая. На протяжении долгих месяцев друзья даже не заикались о своем плане. В этом не было нужды. Они действовали с благородством стоиков, приговоренных к смертной казни. Сама по себе смерть потеряла для них всякий смысл; их тревожило только одно: необходимость придумать какой-нибудь значительный штрих для того, чтобы завершить картину. Никто не делился своими мыслями с друзьями. Но в один прекрасный день газеты сообщили о событии, которого они ждали. Это случилось как раз в то утро, когда друзья договорились собраться вместе, и третий появился на пороге со свежей газетой в руках:
— Господа, на Кубе взорвался броненосец „Мэн“[41].
Война между Соединенными Штатами Америки и Испанской империей неизбежна. Другого заведомого поражения нечего и искать. Америка против могучей Испанской империи — это же бред.
Каждый тут же посвятил других в свои планы. Третий показал написанную им книгу. В ней не было сюжета, она представляла собой подробное описание трехсот шестидесяти четырех сумеречных часов. Все они были одинаковы, и все отличались друг от друга. Остальные двое прочитали книгу. Первый разрыдался, а второй не мог выразить переполнявшие его чувства даже слезами.
— Это великолепно, — сказали оба, — твое произведение поразительно точно и уникально.
— Вот именно, — сказал третий. — Я собираюсь послать его пяти самым лучшим писателям нашей страны вместе с запиской, в которой попрошу их взять на себя обязательство перед лицом нотариуса, пользующегося полным моим доверием, сжечь свой экземпляр, сразу после того как он будет прочитан. Эта книга исчезнет вместе со мной. Я стану для них наслаждением и болью.
Второй не обладал таким воображением. Он пошел по более прозаическому пути и просто продал все свое имущество. На всю эту огромную сумму он купил самый крупный алмаз нашей планеты, которым владел маленький индийский царек. Потом второй приказал распилить камень на куски и зашить их внутрь своего тела.
— Все это богатство исчезнет на поле боя, — сказал он после операции, раскинув руки в стороны, как делают, чтобы показать подкладку пальто. — Я надеюсь, что какой-нибудь пушечный залп разбросает по всем уголкам Кубы такие крошечные осколки алмаза, что он не пригодится даже археологам будущего, ибо не имеет права на существование.
Первый обещал раскрыть свой замысел во время следующей встречи. Горя желанием узнать его план, второй и третий явились на небольшой луг, окруженный дубовой рощей, которая имела форму полумесяца. Свет чуть брезжил, туман рассеивался, и вороны каркали.
— Вы будете моими секундантами, — сказал первый.
Через несколько минут на лугу появился австриец благородных кровей и консул Португалии, который был его секундантом. Драться они собирались на шпагах и до смерти. Противники скрестили шпаги — на фоне рассвета сцена казалась нарисованной маслом на холсте. Естественно, первый с легкостью одолел противника. Очутившись на земле, побежденный подставил свою шею с выдержкой опытного гладиатора.
— Убейте меня, — потребовал он. — Моя жизнь принадлежит вам.
— И я принимаю ее, — сказал первый. — Я убью вас, но не сейчас.
Он обернулся к португальскому консулу:
— Я надеюсь, что вы сумеете выполнить свою роль: я требую, чтобы этот человек совершил самоубийство в тот день, когда станет известно о моей смерти. Вы были его секундантом, и с этого момента на вас лежит ответственность за то, чтобы все пункты нашего договора были выполнены.
— Вы отдаете себе отчет в том, что этот человек — наследник короны, и его преждевременная смерть повлечет за собой войну на Балканах или даже на всем континенте? — предупредил его португалец, указывая пальцем на распростертое на земле тело.
— Я все понимаю, и таково мое желание.
Консул Португалии вытянулся почти по стойке „смирно“ и произнес:
— Я был свидетелем дуэли и принимаю на себя это обязательство. Если у него не хватит духу сдержать слово, я пересеку всю Европу, чтобы покончить с ним вот этими руками, вооруженными пистолетом или револьвером.
Теперь им оставалось только пойти на войну добровольцами. Подобное желание людей такого уровня, вероятно, показалось бы властям слишком экстравагантным и не было бы удовлетворено, но они были слишком известными личностями и администрация не могла им отказать. Их принял человек в гражданском, занимавший какую-то высокую и таинственную должность. Его маленькие глазки прятались под нависшими над ними пушистыми бровями. Он был вежлив, как библиотекарь, и разговаривал бы точно так же с тремя пингвинами или с тремя геранями, если бы получил от правительства соответствующие инструкции. Его удивлению не было предела, когда все трое отказались от временного офицерского чина. Один росчерк пера — и все были занесены в списки бойцов, отправляемых на передовую.
![Альберт Санчес Пиньоль - Золотые века [Рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/114771/114771.jpg)